
ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ
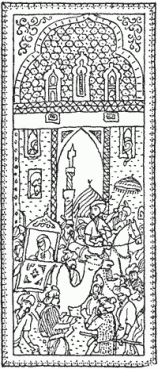
 |
Сайт ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ
перевод с арабского М. А. Салье
|
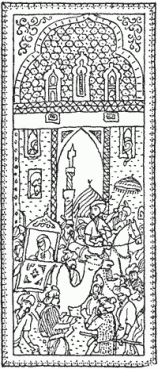 |
|
|
|
|
||
|
бурение скважин на воду |
1001 ночь. Арабские сказкиКнига тысячи и одной ночиСокровищница народной фантазии
Вступительная статья к изданию "Тысяча и одна ночь. Избранные сказки", Москва, издательство "Художественная литература", 1983 год. OCR Sheherazade.ru
Как на образцы хорошего искусства,
передающего простые чувства, но доступные всем людям, я указал бы на почти все народные сказки, большую часть «Тысячи и одной ночи», на Дон-Кихота, эпос, отчасти на романы Дюма-отца. Л. Толстой В истории изящной словесности, вероятно, найдется не так уж много памятников, которые по степени популярности в самых различных слоях общества могли бы соперничать с «вечно юными», по выражению Э.-Т. Гофмана, сказками и рассказами «Тысячи и одной ночи». В Европе и на Востоке они живут в подробно комментированных академических изданиях, в бесчисленных публикациях избранных переводов, в обработках для сцены и кино, во множестве переложений для детей. Кто не откликался на увлекательную фантастику этих сказок, не цитировал их, не вспоминал о них как о друзьях детства, не почитал как неиссякаемый источник поэтического вдохновения. Начиная с итальянских новеллистов эпохи Возрождения, отдельными сюжетами и мотивами «Тысячи и одной ночи» постоянно пользовались европейские писатели самых разных направлений и толков. Но особенно популярной «Тысяча и одна ночь» стала в Европе после опубликования французского перевода А. Галлана в начале XVIII в, О сказках «Тысячи и одной ночи» упоминают в своих произведениях, пользуясь их образами и реалиями для сравнений, намеков, аллюзий, Гете и Пушкин, Толстой и Диккенс, Жуковский и Гофман, Белинский и Пруст, Теннисон и Гауф, Честертон и Шарлотта Бронте, а в наше время Горький и Платонов,— этот список можно было бы продолжить до бесконечности. Трудно найти в истории мировой литературы сколько-нибудь значительного прозаика или поэта, который не выразил бы своего восхищения этим уникальным собранием или не откликнулся на него в прямой или косвенной форме. Секрет жизненности и неизменной популярности этого гигантского памятника народной фантазии состоит в сочетании его познавательного интереса с необычайной занимательностью. «Никакие описания путешественников не дадут вам такого верного, такого живого изображения нравов н условий общественной и семейной жизни мусульманского Востока, как «Тысяча и одна ночь»,— писал В. Г. Белинский в рецензии на русское издание сказок 1. Вместе с тем современного читателя восхищает бесконечная игра воображения, умение авторов-рассказчиков увлечь удивительной, а порой и поучительной историей, изобилующей неожиданными поворотами фабулы, происходящими либо благодаря вмешательству волшебных сил, либо по прихоти судьбы (случайной встречи, совпадения и т. д.), либо вследствие изобретательности и хитрости самих персонажей, добрых или злых, творящих интригу. При этом, какие бы удивительные события ни происходили в рассказах, сколь бы необычными ни были приключения их героев, в конце концов, как правило, всегда торжествует правда, а порок бывает по справедливости наказан. 1Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т,. III. M., 1953, с. 157. «Тысяча и одна ночь» строится как гигантская обрамленная повесть. И повествование начинается с того, как находчивая и мужественная Шахразада, спасая свою жизнь и жизнь многих других молодых женщин города, рассказывает царю Шахрияру, ранее обманутому женой и поклявшемуся казнить каждую новую жену после первой же брачной ночи, занимательные истории. С наступлением утра она прерывает свое повествование на самом интересном месте, и увлеченный рассказом царь откладывает казнь на одну ночь, а в конце концов, после тысячи и одной ночи, и вовсе отменяет свое жестокое решение. У не посвященных в историю этой книги читателей могло по традиции сложиться ошибочное представление, будто «Тысяча и одна ночь» — это собрание исключительно арабских сказок. На самом деле в создании этого грандиозного свода принимали участие своим фольклорным и литературным наследием многие народы, хотя окончательную форму он приобрел на арабском языке, прочно войдя в историю арабской народной словесности. Арабские завоевания VII—VIII веков привели к исламизации и частичной арабизации жителей огромной арабо-мусульманской империи (Халифата). Языком новой, постепенно сложившейся на территории Халифата культуры стал арабский, игравший, подобно латыни в средневековой Европе, роль международного языка. Новая культура впитала не только примитивные традиции кочевников-завоевателей, но также сложившиеся на протяжении многих веков и передаваемые из поколения в поколение духовный опыт и культурные ценности коренных жителей — сирийцев, иранцев, греков — и других народов, оказавшихся в пределах нового государственного образования и втянутых в совместную культурную жизнь. Вместе с другими традициями в общий фонд народной культуры пестрого в этническом и религиозном отношении Халифата вошли также бытовавшие с глубокой древности и изустно передававшиеся от одного поколения к другому индийские и иранские сказки и дидактические сочинения, библейские и евангельские притчи, вавилонский и древнеегипетский фольклор, отдельные фольклорные и литературные сюжеты позднего эллинизма. Не последнее место в этом общем фонде занимали также легенды и предания древней языческой Аравии, привнесенные самими завоевателями. Иногда бывает трудно и даже невозможно определить, на какой именно почве возник тот или иной фольклорный сюжет, ибо, кочуя из одной этнической и языковой среды в другую, он приспосабливался к иным историко-культурным условиям, обрастая местными реалиями, обогащаясь возникшими на местной почве мотивами. Естественно, что весь этот пестрый материал в новых условиях получил новую, отчетливо выраженную исламскую интерпретацию. Наряду с фольклором и в тесном переплетении с ним в городах Халифата существовал особый вид так называемой народной литературы, имевший длительную письменную традицию. Произведения народной литературы чаще всего создавались арабскими уличными чтецами (шаира-ми, маддахами, мухаддисами), записывавшими и использовавшими в своем репертуаре сказки и предания многих народов Востока, а также заимствовавших сюжеты из арабских и переведенных на арабский язык персидских, сирийских, греческих и других литературных источников. Репертуар уличных рассказчиков был весьма разнообразен и включал в себя всевозможные сочинения, от коротких анекдотов и сказок до многотомных героических эпопей. Авторы и собиратели образцов народной литературы, чтецы и переписчики, объединяли различные произведения в «репертуарные сборники», которые переходили по наследству от одного исполнителя к другому, всякий раз подвергались новой редакции, а иногда специально переписывались для любознательных горожан и любителей народной словесности из среды образованного сословия. Одним из наиболее популярных сборников такого типа и стала «Книга тысячи и одной ночи». Из вышесказанного ясно, что «Книга» не являлась творением какого-либо одного автора. Части этого удивительного памятника складывались и шлифовались в течение многих столетий, и лишь к XVI—XVII векам свод сложился в том виде, в каком он известен современному читателю. В основу «Тысячи и одной ночи» лег, по всей видимости, арабский перевод индийских и иранских сказок, входивших в иранский сборник «Хезар эфсане» («Тысяча преданий»), о существовании которого арабские источники сообщают еще в X веке. Этот сборник до нас не дошел, и его состав точно не известен, однако есть все основания предполагать, что обрамляющий рассказ о Шахразаде и царе Шахрияре и некоторые другие сказки индо-иранского происхождения заимствованы именно из «Хезар эфсане». В емкую рамку «Тысячи преданий» профессиональные арабские рассказчики и переписчики на протяжении почти десяти столетий включали все новые и новые рассказы, переделывая их и располагая каждый по своему усмотрению, вследствие чего состав и композиция дошедших до нас рукописей свода не оказались одинаковыми. Жанр «обрамленной повести» — повествовательного сборника, в котором посредством связующей рамки соединены рассказы сказочного басенного и новеллистического типа,— своими корнями уходит в индийский фольклор и древнеиндийскую литературу. По такому принципу строятся многие памятники древнеиндийской словесности: «Панчатантра», «Двадцать пять рассказов Веталы», «Семьдесят рассказов попугая» и многие другие. Главная особенность «обрамленной повести» — наличие обрамляющего рассказа, придающего всему повествованию, подобно рамке картины, целостность и завершенность. В индийской литературе рамка «обрамляла» однородный, внутренне связанный материал, образующий цельное и последовательное повествование. Однако попав на арабскую почву, индийская обрамленная повесть утратила свою жанровую специфику и стала функционировать лишь как удобная, емкая форма, позволяющая, без какого-либо ущерба для общей структуры всего собрания, включать в сборник все новые тексты, представляющие собой самостоятельные, законченные сочинения. Рамочная композиция связывает воедино не только всю «Книгу тысячи и одной ночи»,— на этом приеме строятся и отдельные, входящие в свод циклы сказок в рассказов. Естественно, что в первую очередь такое построение характерно для индийского материала, однако многие сказки и рассказы арабского происхождения под индийским влиянием также сложились в обрамленные циклы («Сказка о Синдбаде-мореходе», «Сказка о горбуне» н др.). В индийском материале «Тысячи и одной ночи» переход к вставным новеллам часто осуществляется при помощи простейшей связки. Рассказчик-моралист говорит собеседнику: «Ты не должен делать того-то и того-то, иначе с тобой случится то, что случилось с тем-то и тем-то».— «А как это было?» — спрашивает заинтересовавшийся собеседник, после чего начинается новая вставная история. Рассказы арабского происхождения исследователи обычно делят на багдадские и египетские, в зависимости от времени их создания или включения в свод. При этом основанием для датировки служат географические и топографические указания, упоминания исторических личностей и событий, различных архитектурных сооружений или, скажем, предметы потребления — кофе, открытый в XIV веке, но вошедший широко в употребление лишь в XV веке, или табак, привезенный в Европу из Америки и получивший распространение лишь с XVI века, огнестрельное оружие и т. п. Разумеется, подобное деление условно, ибо точно определить место возникновения рассказов далеко не всегда представляется возможным, а отдельные детали и исторические реалии могли быть привнесены в них впоследствии при переработке и переписке. Многие сказки «Тысячи и одной ночи» представляют собой сплав разновременных элементов. Так, «Рассказ об Абу Мухаммеде-лентяе» в пашем сборнике — пример соединения индийского сюжета и арабского зачина, в котором фигурирует Харун ар-Рашид, а «Сказка о рыбаке Халифе», в окончательном виде сложившаяся, видимо, в Египте, если судить по той роли, которую в ней играет Харун ар-Рашид, имела какую-то более древнюю багдадскую версию. Оформление ранней багдадской редакции «Тысячи и одной ночи» относят обычно к X—XII векам. В нее вошли обрамляющий рассказ и часть индо-иранских сказок из «Тысячи преданий», причем при переводе сборника на арабский язык персидское название «Тысяча преданий» сменилось наименованием «Тысяча ночей», что, по мнению переводчика, видимо, больше соответствовало самому характеру ночных повествований. В сборник вошли также рассказы арабского происхождения, сложившиеся в городах Ирака (Багдаде, Басре и других) в результате обработки местного месопотамского фольклора, а некоторые из них были позаимствованы из разнообразных арабских и неарабских литературных источников (например, включенный в наш сборник «Рассказ о женщине и лживых старцах» — не что иное, как библейская притча о Сусанне и старцах). Слово «тысяча» понималось составителями не буквально, и число ночей в сборнике не превышало нескольких сотен. В XII — XIII веках оформляется расширенная каирская редакция свода, вобравшего в себя рассказы египетского происхождения, многие мотивы и сюжеты которых восходят к древнеегипетскому фольклору. К этому же времени относится изменение названия «Тысяча ночей» на «Тысяча в одна ночь». Немецкий ученый Литтман связывает эту метаморфозу с влиянием тюркского идиома «бин бир» (тысяча один), обозначающего неопределенное множество. Проникновение тюркской лексики в арабский язык в это время было связано с ростом политического влияния тюркских кочевников в жизни арабских провинций распавшейся мусульманской империи. Позднее число «тысяча один» стало восприниматься буквально в его точном значении и появилась потребность дополнить, в соответствии с общим названием, число «ночей» до тысячи и одной, в результате чего в книгу включались новые, ранее существовавшие самостоятельно произведения. В этот период в свод вощел цикл рассказов о путешествиях Синдбада-морехода, основанный, по-видимому, на книге «Чудеса Индии» персидского капитана Бузурга ибн Шахрияра, а также героические эпопеи, связанные с воспоминаниями о войнах с крестоносцами и Византией, некоторыми чертами близкие европейским рыцарским романам. Свой окончательный современный вид «Тысяча и одна ночь» приобрела в Египте в начале XVII века, уже после покорения Египта и Сирии османским султаном Селимом I (1512 — 1520). Не случайно родиной окончательной редакции свода оказался Египет, города которого посла разрушения Багдада монголами в середине XIII века стали главными экономическими и культурными центрами арабского мира. К индо-иранскому слою свода следует отнести прежде всего волшебные сказки, которые отличаются поэтичностью, изяществом композиции, занимательностью (в нашем сборнике: «Сказка о купце и духе», «Сказка о рыбаке»). В них, как правило, действуют сверхъестественные существа, добрые и злые духи, сознательно, по своей воле, вершащие судьбы героев. Такая черта индийских сказок восходит, надо полагать, к развитой индоиранской мифологии. Сюжеты некоторых сказок имеют параллели в индоиранском фольклоре, хотя связать их с какой-либо конкретной исторической средой невозможно, так как за долгие годы странствий они утратили прежние географические, этнографические и социальные приметы. Мифологическая фантастика, мир волшебных сил, талисманов и чудес в них «арабизированы» (сверхъестественные существа именуются джиннами и ифритами, то есть персонажами арабо-мусульманской мифологии). Утратив священную окраску, эта фантастика воспринимается как поэтический вымысел и приобретает метафорическое значение. Иной характер носят рассказы, возникшие на арабской почве. В багдадских новеллах, часто небольших по размеру, в отличие от индоиранских и позднейших египетских сказок и рассказов, сверхъестественные силы не играют существенной роли. У горожан, жителей Багдада, с их трезвым умом, нет особого вкуса к чудесам, их больше увлекают удивительные события, происходящие в реальной жизни. Багдадские рассказчики любят повествования о преданной, бескорыстной и самоотверженной любви («Рассказ о Муавии и бедуине», «Рассказ о влюбленных, погибающих от любви», «Рассказ о Халиде ибн Абдаллахе аль-Касри»), но также и любовные сюжеты, в которых эротический элемент иногда носит грубоватый и даже непристойный характер («Рассказ о чистильщике и женщине»). У них всегда есть пристрастие к комическому, и они приходят в восторг от находчивых, остроумных ответов («Рассказ о Ширин и рыбаке», «Рассказ о Масруре и Ибн аль-Кариби»), ловкой изобретательности софистически-мудрого мусульманского богослова («Рассказ об Абу Юсуфе), благородства, великодушия и верности слову («Рассказ о честном юноше»). Героями багдадских рассказов часто бывают реальные исторические персонажи — поэты (Абу Нувас), музыканты (Ибрахим и Исхак Мосульские; см. в нашем сборнике «Рассказ об Ибрахиме и юноше»). Но особенно часто в багдадских рассказах фигурирует халиф Харун ар-Рашид (годы правления 786—809). В отличие от индо-иранских сказок, вся прелесть и смысл багдадских новелл не столько в стройной и замысловатой фабуле, сколько в самом событии, о котором идет речь, в яркости и выразительности отдельных деталей. Хорошим примером багдадского рассказа любовного содержания может служить «Рассказ о Ганиме ибн Айюбе», герой которого, купеческий сын, благочестивый, хорошо воспитанный, честный и деятельный юноша, попадает в переделку именно из-за своих достоинств. Распутство и плутовство евнухов, героев двух вставных новелл, словно бы подчеркивают целомудренность главного героя, и это создает своеобразное психологическое равновесие всего рассказа в целом. В отличие от других рассказов, где главная тема — удивительные капризы судьбы, в этой истории Ганим становится жертвой людской несправедливости, хотя в конце концов его высокие моральные качества обеспечивают ему успех в жизни. Незамысловатая стройность сюжета и оригинальность композиции делают рассказ одним из лучших образцов багдадского цикла. Иной вариант любовной новеллы багдадского цикла представлен «Рассказом о двух везирях и Анис аль-Джалис», герой которой являет собой полную противоположность благочестивому и серьезному Ганиму. Так же как и Ганим, сын везиря, беззаботный повеса Hyp ад-Дин делает блестящую карьреру при дворе Харун ар-Рашида. Однако своим успехом в жизни герой рассказа обязан не каким-либо благородным или отважным поступкам, а лишь самой своей природе, тому, что он красив, беззаботен, весел, щедр, чем юноша и привлекает к себе сердце капризного Харун ар-Рашида, делающего его правителем одного' из самых цветущих своих городов. По мере развития фабулы на первый план выходит другой основной персонаж повествования — Харун ар-Рашид, предстающий в рассказе, по традиционной народной молве, любителем необычных ночных приключений. Комизм осуществляемых Харун ар-Рашидом мистификаций основан на несоответствии общественйого положения халифа и его легкомысленного поведения. Рассказ полностью лишен какого-либо сверхъестественного элемента и вполне «реалистичен» — хотя изображаемая история в нем и не вполне правдоподобна, но, в принципе, могла бы иметь место. Таким образом, и в этом рассказе судьба героя и ход событий обуславливаются не вмешательством волшебных сил, а реальными, «земными» обстоятельствами. Поистине жемчужиной собрания «Тысячи и одной ночи» следует признать рассказ «Халиф на час», который трудно датировать и который в равной степени может быть отнесен и к багдадскому, и к египетскому циклу, несмотря на то что центральное место в нем занимает Харун ар-Рашид. Традиционный герой багдадских новелл, кутила Абу-ль-Хасан, растративший половину отцовского наследства в попойках и проказах, убеждается в неверности друзей, отвернувшихся от него в трудный час, и решает впредь оказывать гостеприимство лишь чужеземцам, и то лишь на одну ночь. Судьба сталкивает его с Харун ар-Рашидом, никогда не упускающим случая развлечься за счет чужого унижения. Его жестокая шутка полностью удается, но в отместку Абу-ль-Хасан берет реванш и в свою очередь делает Харун ар-Рашида и его жену Зубейду жертвами своей веселой мистификации. Из «Халифа на час», как и из других рассказов, складывается порожденный народной фантазией образ Харун ар-Рашида, исторически недостоверный, но психологически вполне завершенный. Капризный и жестокий повелитель правоверных, мучимый бессонницей, он бродит, переодевшись в платье простого купца, со своими постоянными спутниками, везирем Джафаром и палачом-телохранителем Масруром, по ночному Багдаду и с интересом наблюдает жизнь своих подданных. Поступки его загадочны и непредсказуемы, настроение его непрерывно меняется, и он мгновенно переходит от меланхолии и депрессии к внезапному приступу сильного возбуждения и пароксизму смеха. Его никогда не покидает чувство юмора, и он может быть щедр и простодушен, но под влиянием какого-либо неожиданного впечатления или препятствия на пути к осуществлению своего каприза может стать безжалостным тираном, внушающим всем окружающим страх. Разумеется, образ легендарного халифа не имеет ничего общего с реальным правителем-деспотом, который не только не бродил по ночному Багдаду в поисках развлечений, но, напротив, значительную часть жизни провел в загородной резиденции, избегая встречи с народом. Не менее полнокровным предстает перед читателем и образ Абу-ль-Хасана, веселого шутника, всем другим радостям жизни предпочитающего застолье и общество собутыльников. С большим юмором рассказывается о жизни Абу-ль-Хасана во дворце во время его однодневного «халифства». Чувство собственного достоинства, это великое завоевание ренессансной культуры, еще чуждо герою, живущему в условиях средневековых представлений, и осуществив задуманную мистификацию, он вполне удовлетворяется материальными благами, которые дают ему возможность продолжать веселую и беззаботную жизнь. И здесь стоит обратить внимание на известное моральное безразличие в вопросах внутрисемейных отношений: герой рассказа, Абу-ль-Хасан, жестоко колотит мать, и рассказчик никак не осуждает подобный поступок — видимо, такое поведение ему кажется естественным для подобного героя. Отметим, что и в европейских фаблио грубость героев также не всегда встречает моральное осуждение — представления о справедливости и патриархальной деликатности в средние века, надо думать, не всегда совпадали с моралью нового времени. В египетских новеллах, созданных в основном в Каире в торгово-ремесленной среде, более явственно, чем в остальных сказках Шахразады, звучат мотивы социальные. Их герой, обычно мелкий купец или бедный ремесленник, не слишком образован, но наделен здравым смыслом и находчивостью, благодаря которым он в конце концов добивается высокого положения и богатства. Изобретательность героя египетских новелл носит гораздо более «утонченный» характер, чем ловкие проделки его багдадских предшественников. Его приключения, в отличие от приключений героев коротких багдадских рассказов-анекдотов, составляют фабулу длинных занимательных повествований, иногда содержащих целое жизнеописание. Хотя рассказы египетского цикла сочетают в себе разнородные, в том числе сказочные, элементы, в основном повествование в них развивается в реалистических тонах. Примером тому может служить «Сказка о рыбаке Халифе», герою которой, бедному рыбаку, счастье начинает улыбаться по воле случая, но который' и сам умело старается воспользоваться им. Он стойко переносит удары судьбы, когда его, без всякой вины, угощают побоями, и сдержанно радуется, когда на его долю выпадает удача и он становится богатым и знатным, проявляя при этом великодушие и щедрость. Иногда бывает трудно сказать, где кончается его простецкая наивность и начинается сознательное фиглярство, которое помогает ему защищаться от сильных мира сего. Стремительным развитием действия, умелым сведением воедино разных линий повествования и судеб героев (рыбака, любимой наложницы халифа, самого халифа), острым чувством социального, веселым юмором этот рассказ выгодно отличается от аналогичных «приключенческих» рассказов Багдада, хотя традиционные темы, характерные для предшествующей стадии развития арабской новеллистики, играют и в нем немалую роль. Со сложным сочетанием реалистического повествования, фантастики и назидания мы встречаемся в одном из лучших рассказов египетского цикла — «Сказке об Абдаллахе земном и Абдаллахе морском», которой семантическое разнообразие отдельных частей придает особую загадочность и прелесть. В центре повествования находится бедный, но благочестивый рыбак Абдаллах. Однажды ему довелось вытащить из моря живое существо, человека из числа «детей моря», оказавшегося также мусульманином, который предлагает Абдаллаху земному вступить с ним в дружбу. Он просит лишь снабжать его продуктами земного садоводства, а в обмен обещает приносить драгоценные камни, в изобилии встречающиеся на дне моря. В словах фантастического подводного обитателя слышны отголоски той широкой торговли, что вели купцы Египта с жителями тропических стран. Обретенные чудесным образом рыбаком богатства едва не стоят ему жизни. Ибо, когда герой пытается продать драгоценности, его обвиняют в краже, и лишь заступничество доброго царя, поверившего, что Аллах всегда может неожиданно облагодетельствовать бедняка, спасает его от наказания. «Для денег нужен сан,— говорит царь,— я защищу тебя от господства людей в эти дни, но, может быть, я буду низложен или умру и власть получит другой, и тогда он убьет тебя из жадности». Таким образом, царь хорошо осведомлен об отсутствии правовых гарантий у человека в его царстве и, дабы укрепить положение Абдаллаха, женит его на своей дочери и делает его своим везирем. Перед тем как отправиться в хаджж, Абдаллах земной соглашается посетить своего морского друга в его стране. Он спускается в подводное царство, где видит множество чудес, удивительных рыб, города, населенные подводными обитателями. Морской царь и жители моря смеются над Абдаллахом земным потому, что у него нет хвоста. Рассказчику, оказывается, присуще тонкое понимание того, что все необычное вызывает у людей ограниченных, знающих только близкий им мир, одни лишь насмешки и презрение. Но основное расхождение во взглядах между землянами и жителями моря обнаруживается в конце путешествия Абдаллаха земного. Он оказывается свидетелем радостного праздника обитателей моря по случаю смерти одного из них и высказывает по этому поводу недоумение. В свою очередь Абдаллах морской, узнав, что земляне печалятся по случаю смерти близких, бьют себя по лицу и рвут на себе одежды, проникается к землянам презрением. «Ведь Аллах вкладывает в новорожденного душу в качестве залога, так почему же вы плачете, когда он ее забирает обратно?» — вопрошает он. И тут мы видим, что средневековый рассказчик-автор способен понять противоречивость греховной человеческой природы, вынуждающей людей радоваться жизни и горевать о смерти вопреки вере, что жизнь есть лишь временная земная юдоль и испытание на пути к богу, а смерть — возвращение к нему, и он осознает это противоречие и не порицает человека за его любовь к жизни, ибо видит в этом лишь проявление человеческой слабости и непоследовательности. Однако он понимает и несовместимость взглядов жителей земли и подводного царства, выражающуюся в ином отношении к пище, драгоценностям, а также к жизни и смерти, хотя все существа в мире — едины, что подчеркивается единообразием имен действующих лиц: Абдаллах, то есть раб Аллаха. Несмотря на обилие различных мотивов, сказка в композиционном отношении целостна и все ее реалистические и волшебные элементы, рассказы о путешествиях под водой и дидактика хорошо сбалансированы и приведены в стройную, слаженную систему. Незамысловатая фабула с ярко выраженной моралью характерна для «Сказки об Абу Кире и Абу Сире» — произведения, которое, судя по содержащимся в нем реалиям, возникло в Египте не ранее конца XVI века. Герои сказки, два ремесленника, добрый цирюльник Абу Сир и злой красильщик Абу Кир, добиваются успеха в чужом городе благодаря своему мастерству. Завистливый и жадный Абу Кир не желает мириться с успехом своего друга, пытается погубить его, оклеветав перед местным правителем, но судьба благоприятствует Абу Сиру, и гнев царя обрушивается на злодея. Несложная мораль рассказа — добродетель вознаграждается, а порок наказуется, как это почти всегда случается в поздних египетских рассказах, выражена при помощи традиционной фабулы (конфликт доброго и злого человека). Однако условный сюжет обрастает большим числом жизненных деталей, превращающих рассказ в реалистическую новеллу. Оба персонажа сказки выступают в роли «культурных героев», и предприимчивость их щедро вознаграждается — они обретают богатство и почет. Подобный взгляд на труд ремесленника естествен для горожанина-труженика. Любопытно, что автор рассказа не осуждает Абу Кира за нарушение традиционных цеховых правил, он лишь считает вполне естественной реакцию членов замкнутой корпорации на появление чужака, вносящего новшества, так же как и стремление деятельного человека вырваться за пределы сковывающего регламента. Однако то обстоятельство, что нарушителем цеховых правил выступает отрицательный персонаж рассказа, свидетельствует о симпатиях автора к старинным цеховым традициям и его убежденности, что нарушить их может лишь злой чужак, которого, после блестящего успеха, настигает жестокая кара. К смешанному жанру дидактическо-приключенческого характера относится египетский «Рассказ про Али-Баба и сорок разбойников». Это рассказ о скромном дровосеке, случайно обнаружившем убежище разбойников, куда они сносят награбленные богатства, и его преданной служанке Марджане, умело расправляющейся с преступниками, получившими в конце концов заслуженное возмездие. Вся атмосфера рассказа характерна для повседневной городской жизни, события в нем развиваются в полном соответствии с логикой, и между ними устанавливается четкая причинно-следственная связь, выразительные средства в нем тщательно отобраны, а каждая деталь имеет конкретное функциональное назначение. Единственный волшебный элемент — дверь, ведущая в убежище разбойников, которая открывается после произнесения определенной формулы,— лишь еще более оттеняет жизненную достоверность всех остальных эпизодов рассказа. Особое место в «Тысяче и одной ночи» занимает «Сказка о горбуне», вставные рассказы которой сложились на основе фольклорных и литературных источников еще в багдадский период, но свое окончательное композиционное завершение сказка получила уже в Египте. Комическая история мнимого убийства обрамлена целым рядом занимательных рассказов, имеющих законченный самостоятельный характер, причем один из них — «Рассказ портного» — в свою очередь содержит еще несколько вставных историй. Почти каждый из вставных рассказов имеет свою особенность: один напоминает грубоватые европейские шванки (так, «Рассказ о втором брате цирюльника» живописует издевательства женщин над наивным влюбленным), другой воспроизводит сцены комических кукольно-теневых представлений (рассказ о болтливом цирюльнике), иные же повествуют о шутниках и хитрых мошенниках («Рассказ о третьем брате цирюльника», «Рассказ о шестом брате цирюльника»). Абсурдность изображенных в рассказах ситуаций, начиная с истории о мнимом убийстве и кончая нелепым положением, в котором оказались жертвы красноречия цирюльника, комические, но вместе с тем и зловещие испытания, через которые проходят все герои вставных новелл, — все это создает ощущение трагической нереальности и нелепой бессмысленности самой жизни. Такая концепция своеобразного «черного юмора» не случайно возникает на почве средневекового Египта, в котором простой горожанин чувствовал себя беспомощным перед произволом и тиранией чужеземных мамлюкских правителей. Как и многие другие рассказы «Тысячи и одной ночи», «Сказка о горбуне» строится наподобие ритмической фигуры с уравновешенными частями и с симметричным расположением эпизодов, которые запутывают повествование этап за этапом вплоть до кульминации, а затем распутывают, проходя те же этапы в обратном порядке, хотя и с иным расположением эпизодов. Композиционные узоры сказок Шахразады подчас напоминают замысловатые, но всегда графически уравновешенные орнаменты арабских средневековых художников. Их занимательности в значительной мере способствует удивительное искусство композиции, разработанной в арабском народном творчестве с большим изяществом и изобретательностью. Во многих рассказах египетского цикла существенную роль в повествовании играют волшебные силы. В нашем сборнике это — «Рассказ про Ала ад-Дина» и «Рассказ о Маруфе-башмачнике». Основой фабулы в «Рассказе про Ала ад-Дина и заколдованный светильник» служит мотив волшебного талисмана, которому слепо подчиняется всемогущий джинн. Герой рассказа, сын бедного портного, которому самой судьбой предначертана удача, с помощью оказавшегося в его руках волшебного предмета обретает богатство и женится на дочери султана. Но магическая роль талисмана интересует рассказчика не столько сама по себе, сколько в связи с той социально-психологической эволюцией, которую переживает герой, превратившийся под влиянием богатства и могущества из легкомысленного и неопытного юноши в зрелого и практичного хозяина обретенных им сверхъестественных возможностей. Богатство обеспечивает герою успех в жизни, что соответствует особенностям конкретных социальных условий, и, таким образом, несмотря на присутствие в рассказе волшебного элемента, автор не грешит против исторической правды. В рассказе про Ала ад-Дина, также как и в других рассказах «Тысячи и одной ночи», постоянно встречается излюбленный в народной литературе мотив о простолюдине, который влюбляется в царскую дочь и, благодаря покровительству волшебных сил, добивается ее руки и сам становится царем. Так любовь торжествует над социальным разделением, и автор, как бы выражая чаяния беднейших слоев общества, приводит события к благоприятной развязке. Однако в «Тысяче и одной ночи» этот мотив имеет средневековую окраску — успех юноши обуславливается не столько его целеустремленной активностью, сколько предначертанием свыше, или действием волшебства, в результате чего на первое место выдвигается традиционная средневековая тема судьбы и герой оказывается лишь слепым исполнителем ее воли. По-иному трактуется проблема везения и волшебного талисмана в «Рассказе о Маруфе-башмачнике», одном из позднейших образцов египетского цикла. Подобно Ала ад-Дину, герой рассказа Маруф — бедный человек, сапожник, едва сводящий концы с концами. Однако его блестящий успех в жизни никак не предопределен, но оказывается результатом личных достоинств героя — его предприимчивости и доброты. Волшебный предмет — кольцо, равно как и огромные богатства,— попадает ему в руки именно тогда, когда он трудится на поле, помогая оказавшему ему гостеприимство крестьянину. Склонный к мифотворчеству, как и все его выросшие в трудных условиях современники, и уверовав в сочиненную его другом Али выдумку, он начинает жить в сложившемся в его сознании вымышленном мире, пока реальная действительность не заставляет его пробудиться. Но и тогда он остается доверчивым и наивным, хотя его необычные для купца щедрость и непрактичность вызывают подозрение и даже осуждение окружающих. Однако автору рассказа свойственно замечательное понимание того, что безответственность героя составляет оборотную сторону его почти эпической щедрости и горячего сочувствия бедным людям, которым он раздает все сокровища казны, а также фаталистического отношения к жизни. По характеру фабулы «Рассказ о Маруфе-башмачнике» — это волшебная сказка. Однако конкретными деталями и описаниями, веселостью и комическими преувеличениями, равно как и проделками героя, он скорее напоминает средневековую плутовскую новеллу. Так, уговаривая Маруфа согласиться на блеф с караваном, его друг Али говорит ему: «Вся земная жизнь — бахвальство и хитрость, и в стране, где тебя никто не знает, делай что хочешь!» — и герой охотно следует этим советам. Вместе с тем и фантастические существа, джинны и ифриты, составляют важный элемент фабулы египетских рассказов. При этом воля и поступки «земных» персонажей и их фантастических помощников настолько естественно сливаются, что волшебный и реальный миры образуют полное органическое единство, в котором картина жизни средневекового мусульманского города, проступая сквозь волшебную пелену, обретает особую загадочную и поэтическую привлекательность. Характером и ролью волшебных сил рассказы египетского цикла отличаются от индо-иранских сказок. Волшебные силы в египетских рассказах — это уже не прежние, независимые духи индо-иранского фольклора, а ревностные «службисты», своеобразные волшебные чиновники-функционеры, не добрые и не злые, а лишь слепо подчиняющиеся талисману, символу власти, и механически исполняющие волю своих повелителей. Они оказываются хотя и умелыми, но полностью подвластными человеку слугами и перед ними, как перед естественными явлениями жизни, у горожанина нет благоговейного страха. Они выполняют все приказы, не делая различия между законными владельцами талисмана (существующей властью) и похитителями талисмана (узурпаторами власти). Подобная мифология, естественно, выросла на почве позднесредневе-кового Египта с его деспотическим режимом, борьбой за власть и бюрокра тической структурой аппарата управления и стала своеобразной художественной метафорой общественной жизни. Поэтому требования, которые герои этих рассказов предъявляют послушным «слугам талисманов», хотя и грандиозны по масштабам, но банальны и выдержаны в духе идеалов горожан. От джиннов требуют золота и драгоценностей, еды и «транспортных услуг», то есть всего того, что может оказаться нужным купцу-горожанину. Разумеется, джинны должны также обеспечить личную безопасность хозяина, оградив его от произвола феодальных властей. Общий тон египетских новелл, иронический по отношению к правителю, откровенно враждебный к его везирю (обычно подлому и лукавому царедворцу, вершащему все дела глуповатого и жадного властелина) и сочувственный по отношению к труженикам, отражает чувства и взгляды горожан и свидетельствует о среде, в которой эти новеллы создавались. И багдадские рассказы, и каирские новеллы чрезвычайно интересны с историко-культурной точки зрения. Перенеся читателя в увлекательный мир средневекового арабского Востока, воспевая романтику дальних странствий, причудливых судеб, несметных богатств и роскоши, арабские рассказчики удивительно красочно и разносторонне воспроизводят бурную жизнь больших городов: Багдада, Басры, Каира, Александрии с их пестрым в этническом отношении населением, с их социальными конфликтами, бытом, нравами, этическими представлениями. Не только для специалиста-историка, но и для всякого любознательного читателя «Книга тысячи и одной ночи» — неисчерпаемый кладезь самых разнообразных сведений о жизни арабских городов в период расцвета Багдадского халифата, во времена правления мамлюкских султанов и турок в Египте. В рассказах «Тысячи и одной ночи» выведена целая галерея типов, принадлежащих к различным слоям городского общества. Богатые купцы и бедные ремесленники, правители, иногда великодушные и щедрые, иногда злобные и мстительные, их министры-советники, как правило мудрые и благородные, поучающие правителя в индо-иранских сказках, напротив,— коварные и корыстные, управляющие царем в своих интересах в багдадских и каирских рассказах, несправедливые чиновники и неправедные судьи, ловкие плуты, коварные и развратные, и, наоборот, благочестивые и добродетельные жены, сынки богатых торговцев, распутничающие и тратящие огромные богатства, умные и энергичные наложницы, сводни и колдуньи — вот далеко не полный перечень персонажей рассказов и сказок Шахразады. Герой «Тысячи и одной ночи» статичен. И социально и психологически он принадлежит своему сословию и твердо знает свое место в иерархическом обществе. Его мир — город, в котором царит феодальный произвол. Бесконечные опасности подстерегают горожанина на каждом шагу, он должен уповать и на собственную изворотливость, и на спасительное стечение обстоятельств. Социальные и природные силы объединяются против него всякий раз, когда он, подобно Синдбаду-мореходу, вступает в борьбу со стихиями на море и на суше, с пиратами, с хищной и жестокой феодальной администрацией. Преувеличение роли случая в рассказах и обильный налет фантазии — результат воздействия на героя-горожанина слепых феодальных сил произвола и анархии, равно как и буйного своеволия еще неподвластной человеку природы. Но провидение, которое, по понятиям средневекового человека, стоит за слепой случай ностью, всегда справедливо, и уповая на него, герой отваживается на смелые предприятия. В истории мировой новеллистики «Тысяча и одна ночь» занимает промежуточное место между грубовато-примитивными средневековыми европейскими рассказами (фаблио, шванки) и более утонченной европей ской новеллой раннего Возрождения. Во многих рассказах этой грандиоз ной книги уже ощущается выход за пределы чисто средневековой эстетики Так, в соответствии с особенностью арабского средневекового художест венного мышления, описательный элемент в «Тысяче и одной ночи» носит в основном установившийся, клишированный характер. Таковы портреты красавиц и красавцев, подробные, наивно-откровенные изображения лю бовных сцен, картины быта, немногочисленные описания природы, которые всегда рисуются одинаково, в виде совокупности перечисляемых элементов без какого-либо свободного, живописного многообразия и повторяются из рассказа в рассказ. Такой способ изображения прекрасного вытекает из средневекового представления о красоте как о чем-то постоянном заранее известном, не нуждающемся в конкретизации. Но вместе с тем в рассказах «Тысячи и одной ночи» уже чувствуется любование всякой красотой — человеческого тела, одеяний, убранства домов, драгоценностей и т. д., в котором сказывается влияние развитой придворной культу ры. Роскошь дворцов правителей или знатных и богатых людей, неслыхан ная красота нарядов, драгоценные камни и ювелирные изделия — все это описывается в повторяющихся формулах, по установившейся схеме, но тщательно и с увлечением, а действие часто развивается на фоне живых бытовых сцен: сутолоки торгово-ремесленных рядов, рынков, мечетей и т. д. Сохраняя основную черту средневековой литературы — ее нормативно-клишированный характер, при котором изображение человека должно было соответствовать устойчивой модели представителя того или иного сословия, авторы-рассказчики «Тысячи и одной ночи» сделали первый шаг в направлении индивидуальной портретной и речевой характеристики попытались проследить эволюцию в поведении, во внутреннем облике своих персонажей. Облагороженный авторами герой рассказов — это уже не просто плут или участник сомнительных любовных интриг, а человек образованный, богатый, щедрый и красивый, отвечающий нравственному и эстетическому идеалу средневекового горожанина. Красочное и реалистическое описание быта, занимательность, богатство сюжетных и фабульных мотивов, композиционное и стилистическое мастерство, менее грубая сравнительно с европейскими фаблио, эротика и более благородное чувство комического выгодно отличают лучшие сказки и рассказы «Тысячи и одной ночи» от аналогичных жанров в европейской средневековой литературе и обеспечивают им неизменный успех у читателей разных эпох и культур. И. Фильштинский |